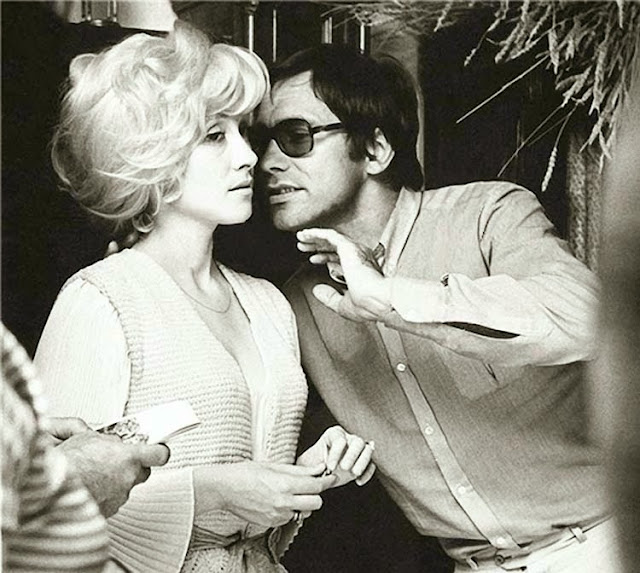Новый фрагмент
| Главная » Новые фрагменты » Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ |
Режиссер Андрей Кончаловский. «Мосфильм». 1970 «Дядя Ваня» - очень хороший фильм. Вуди Аллен сказал: «Это лучший «Дядя Ваня», которого я видел. Я вообще не думаю, что можно поставить эту пьесу лучше. Сергей Бондарчук играет доктора замечательно…». Да, все артисты играют замечательно, у всех такие красивые, благородные лица. И фильм красивый и печальный. Лучше нельзя было поставить, я согласен. Одна поправка: нельзя было лучше поставить в традициях МХАТ. Но Чехов был не очень доволен мхатовский постановкой. Доктора Астрова играл Станиславский, все было прекрасно, но Чехову хотелось чего-то другого, как хотелось от всех мхатовских воплощений его драматургии. Это при том, что после провала «Чайки» в Санкт-Петербурге МХТ реабилитировал эту пьесу, успех спектакля был феноменальным, недаром чайка поныне на мхатовском занавесе. Если Чехов был недоволен, почему же он не объяснил мхатовцам, как надо? Трудно сказать. Можно только предполагать. Скажем, Чехов понимал, что его не поймут, что Станиславскому и Немировичу со всем их реализмом надо еще пройти очень большой путь до его реализма. (И Чехов был такой скромный, трезвый человек, что он даже не стал бы думать в таких терминах: «кому-то в чем-то далеко до меня»). Кроме того, Чехов, может быть, не хотел и для себя самого формулировать, в чем особенности его пьес. Он терпеть не мог теоретизировать по поводу искусства. Теоретизирование для художника вредно, а если оно касается собственного творчества, то еще и опасно: можно, чего доброго, попасть в точку… и тогда сороконожка разучится координированно двигать ножками. Так или иначе, Чехов не объяснял. В лучшем случае, он произносил что-то загадочное. Допустим, он сказал Станиславскому, что персонаж, которого тот репетировал, должен посвистывать. Станиславский не понял, зачем тому посвистывать, и поскольку посвистывание не укладывалось в его видение персонажа, делать этого не стал. Чехов, конечно, не сказал ему, посмотрев спектакль: «Вы почему не посвистывали?» Дело же не в посвистывании, автор хотел намекнуть на что-то другое и более общее. Не поняли так не поняли, что поделаешь. Чехов не хотел объяснять, а я попытаюсь, ведь мне это ничем не грозит. Но сначала надо коротенько так пройтись по истории мировой прозы и драматургии. Древние греки думали, что все происходит по воле богов. Эта воля выступает у Эсхила и Софокла в форме судьбы-рока, который является движущей силой «Орестеи» или «Царя Эдипа». То, что в теории драмы называется интригой, у этих авторов отсутствует: их пьесы представляют собой некие драматизированные действа, как бы позволяющие зрителю следить за протянутой с Олимпа рукой, передвигающей персонажей пьесы наподобие шахматных фигур. «Эврипид вносит в трагедию интригу, которую разрешает искусственно, большей частью с помощью особого приема – deus ex machine (букв.: бог из машины)». (Википедия). Потом люди, продолжая верить в Бога, вместе с тем стали полагать, что Он даровал им свободную волю. Таким образом, все зависит от них самих, их действий. На уровне искусства это проявилось в том, что пружиной прозы и пьес, например, романов Ричардсона или Диккенса, комедий Лопе де Вега или Мольера, - стала интрига. Персонажи действуют определенным образом, и в результате в финале получается то-то. Действуй они иначе, финал был бы иным. "Гамлет", при всей философичности, такая же пьеса интриги, как какой-нибудь водевиль Скриба или Лабиша: принц Датский выбирает, to be or not to be, как герой Миронова в "Соломенной шляпке" или гоголевский Подколесин - жениться им или не жениться, и как они выберут, так и повернется сюжет. Вплоть до середины 19 века механицизм господствовал в искусстве, как и в физике. Но постепенно физики стали глубже задумываться над явлениями электричества и магнетизма. В 1864 году Максвелл создает теорию электромагнитного поля, согласно которой электрическое и магнитное поля существуют как взаимосвязанные составляющие единого целого. Таким образом складывалось понимание, что не все явления можно объяснить по принципу «крючочек-петелька»: есть некие другие принципы взаимодействия предметов, объяснить которые пока невозможно… и тем не менее они существуют. Вода в кастрюле не кипит в одном месте: что-то менялось не только в мозгах ученых. На уровне искусства новое мировоззрение проявилось как уменьшение роли сюжетных дырочек и крючочков - расшатывание, развал интриги. Толстой великий писатель, потому что он первым, и до конца последовательно, сделал движущей силой своего произведения – это была «Война и мир» - не интригу, а некие суммарные поля человеческих чувств, мыслей и воль. Да, Кутузов считает, что на все воля Божья, однако под таковой он понимает не то, что греки: воля Божья для него не сосредоточена в передвигающей фигурки деснице, а растворена в самом загадочном океане человеческого общества. В драматургии развалить интригу значительно труднее, чем в прозе. Говоря крайне примитивно, в прозе есть авторская речь, которая может склеивать произведение в целостную структуру вместо интриги. А что заменит интригу в пьесе? Чехов-драматург впервые развалил интригу в «Чайке» - и постановка пьесы в Александринском театре, где новизны ее совершенно не ухватили, с треском провалилась. Мхатовская «Чайка» оказалась чрезвычайно успешной. Потому что Станиславский и Немирович ее поняли? Нет, они ее тоже не вполне поняли. Но они хотя бы ощутили ее новизну, осознали, что раз эта пьеса не склеена обычным клеем интриги, ее надо склеить как-то иначе. И они склеили ее настроением, атмосферой. Артисты говорили с необычно долгими паузами, светила луна, ветерок вздувал занавеску, трещали сверчки, гудел вдалеке паровоз. Это был, с одной стороны, небывалый на сцене натурализм, а с другой – небывалый лиризм, некий воплощенный на сценических подмостках Фет. И все это было про безысходную печаль российской жизни и существования вообще. Интеллигентная московская публика стонала от наслаждения жалости к себе. Но Чехову это не нравилось. Он терпеть не мог эксплуатировать жалость людей к самим себе. И он-то склеил «Чайку» не лирикой, а чем-то совсем другим. Чем же? Это прозвучит как парадокс, но он склеил ее значащим отсутствием клея. Как в тех языках, где есть артикль, его отсутствие есть не полное отсутствие, а тоже артикль, но только нулевой, так и в драматургии Чехова развал интриги осуществляется на фоне традиционного театра интриги, и отсутствие ее значаще. «Чайка» - не Фет на сцене, а Толстой. Чеховские персонажи - не крючочки и петельки, а непосредственно не соприкасающиеся (дистактные) частицы. На уровне общения дистактность проявляется в том, что действующие лица говорят как бы мимо собеседника: их диалоги, по существу, чередование монологов. И тем не менее, персонажи неким образом взаимосвязанны и влияют друг на друга. На сцене опять царит судьба, но не судьба-рок, а судьба как сплавление (fusion) индивидуальных желаний, мечтаний, радостей и бед в некие поля, которые не дают индивидуальным потенциям осуществиться; людей отклоняет со счастливых орбит не злая воля отрицательных персонажей, а созданные их же собственным взаимодействием поля, и с этим парадоксом ничего нельзя поделать, так, по-видимому, будет всегда… по крайней мере, еще триста лет (но это поэтические, мечтательные триста лет, которые, на деле, означают всегда, никогда). Такое устройство мира очень печально, что и говорить. Но Чехову хочется, чтобы зрители постигли устройство, а не одну лишь печаль, которая - результат устройства, но не оно само. Если же зрители будут, как в постановках МХТ, воспринимать только печаль, ничего на свете не изменится. Чехов был скептиком и пессимистом, но, может быть, где-то в последней глубине души он все-таки надеялся, что мир может быть другим. Но для этого люди должны понять – они несчастны не оттого, что среда заедает, мужики темны и русские дороги непролазны или Бог махнул на землю рукой, а от самих себя. Если каждый это поймет, может, и поле в целом изменит свои параметры, кто знает? Чехов не хотел, чтобы зрители на его пьесах плакали (эффект, который так хорошо удавался МХАТу). То есть всплакнуть, конечно, можно – но потом утереть слезы и что-то понять, что-то понять. Следует отметить нечто интересное. Толстой тоже писал пьесы (собственно говоря, он сочинил их не меньше, чем Чехов), но он не осуществил в них того «полевого эффекта», которого добился в прозе. Не то что ему это не удалось – он к этому даже не стремился, не подозревая, что пьесы без интриги возможны. Л.Н. был гением романной формы, А.П. - драматургической, и Л.Н.-драматург был настолько традиционен, что не смог даже оценить гениальности А.П., пьес которого он настолько не воспринимал, что прямо сказал ему: «И как такой умный человек, как вы, может писать подобную чепуху?» Чепуха. Это не случайное слово. Чехов наследовал Толстому лишь в том смысле, что мир его пьес – тоже мир полей. Но по «заряду» это совсем иные поля. Толстой находил в мире, который он увидел иначе, чем кто-либо другой до него, новый смысл – в пьесах Чехова господствует бессмыслица, хаос. Поэтому его можно считать родоначальником драматургии абсурда. Но все-таки Чехов не Беккет и не Ионеско: он балансирует между реализмом и абсурдом, не склоняясь в ту или иную сторону. Недаром он называл свои печальные пьесы комедиями и досадовал на МХТ, который трактовал их как драмы. Постановщикам чеховских пьес и сегодня адски трудно удержаться на тонкой грани между трагичным и нелепым (отсюда бесконечное число попыток), как трудно актерам поймать существо чеховских персонажей. Второе, пожалуй, просто невозможно: надо глубоко играть психологию без серьезного отношения к ней, играть так, чтобы зритель понимал: психология персонажей важна лишь постольку, поскольку она не важна, при любой психологии исход пьесы будет тем же - все решает некая суммарная статистика, а не индивидуальные желания. Сестры Прозоровы мечтают о Москве, но никогда в нее не попадут не оттого, что они такие безвольные интеллигентки, а оттого что... ну не попадут они, и все, таков расклад жизни, так карта легла, жизнь сложилась, многочисленные поля взаимопересеклись. Три сестры, как и вообще чеховские герои, не противодействуют полям не столько даже из чувства фатализма, а из некоего преклонения пред красотой процесса судьбы. Сопротивляться этому процессу - пошло. Да, можно посмотреть и так: чеховские персонажи сопротивляются знаменитой пошлости среды через несопротивление судьбе. Буддисты своего рода. Помню, я однажды далеко заплыл в море, ветер дул от берега, я почувствовал, что, может быть, не доплыву назад. Мимо пролывала лодка, но я не попросил подобрать меня: это показалось мне некрасивым, стыдным. Вывод: актерам надо играть людей, одновременно играя как бы элементарные частицы. Любопытная вещь: от раннего периода к позднему число персонажей в чеховских пьесах растет - не оттого ли, что, все более осознавая природу своей драматургии, Чехов стремился превратить мир своих пьес в стохастический мир элементарных частиц? А действие пьесы, которую А.П. собирался написать после "Вишневого сада", да не успел, и вовсе должно было происходить на громадном пассажирском корабле. Корабль застрял во льдах. Может быть, пьеса была бы о том, как мириады броуновских частиц постепенно сковывает, парализует нечто неизмеримо превосходящее их по силе - могучее и смертельное дыхание полюса? * Элементарные частицы. Стохастика. Тоже не случайные слова. Чехов на уровне драматургии соответствует не классической физике 19-го века, а модернистской физике 20-го, для которой индивидуальное поведение частиц не имеет значения: общие законы микромира (определяющего и состояние макромира) описываются неумолимыми уравнениями квантовых систем. Возвращаясь к фильму «Дядя Ваня», повторю: фильм хороший, артисты красивые и тонкие. Но ввиду всего сказанного выше возникает вопрос: нужно ли им быть такими красивыми и тонкими? О таком дяде Ване, которого сыграл Смоктуновский, впрямь подумаешь: если бы не его нелепое, рабское служение Серебрякову, может, он и вправду стал бы Достоевским, Шопенгауэром? По Чехову же, соответствующая тирада дяди Вани – просто истерика. Никем он не стал бы. Это только кажется, что он, и я, и вы живем чужую жизнь. Нет, живем ту, которую способны прожить. Где доказательства художественных или философских талантов дяди Вани? Чем занимался бы он, если бы не управлял имением? И чем плохо имением управлять? А что часть денег отправляется Серебрякову, это правильно: он, по крайней мере, совладелец имения. (Под перечнем персонажей Чехов и вовсе указал: «Действие происходит в усадьбе Серебрякова»). Таким образом, это пьеса не о несправедливости судьбы, а о минутном бунте человека, вдруг возроптавшего на свою вполне нормальную судьбу. Возроптал, а потом все улеглось. Флуктуация запутанных семейно-имущественных и личных отношений распалась, все вернулось к состоянию энтропии. Гости уехали, постоянные жители остались. Надо работать. Что еще делать, если не работать? А на судьбу жаловаться нечего не потому, что терпение – добродетель, а потому, что нет, в общем-то, никаких оснований на нее жаловаться. Тем более что мы отдохнем, мы когда-нибудь отдохнем. * Точнее все же будет сказать, что чисто количественно число персонажей растет от "Дяди Вани" к "Вишневому саду". ("Чайка" многоперсонажна, но о ней особый разговор: возможно, здесь Чехов нашел "свою" поэтику, но, - может быть, из-за первоначального провала этого опуса, - потом отступился от нее как от слишком "модернистской", и потом лишь постепенно вернулся к ней). Также надо добавить, что растет не только число персонажей, но и число равно важных для сути пьес персонажей: разница между "центральными" и "второстепенными" действующими лицами размывается.
Андрей Кончаловский и Ирина Мирошниченко
Смотреть фильм он-лайн:
По вопросам приобретения книги С. Бакиса «Допотопное кино»
можно обратиться по тел.: +38(067) 266 0390 (Леонид, Киев).
или написать по адресу: bakino.at.ua@gmail.com Уважаемые посетители сайта!
Чтобы оставить комментарий (вместо того, чтобы тщетно пытаться это сделать немедленно по прочтении текста: тщетно, потому что, пока вы читаете, проклятый «антироботный» код успевает устареть), надо закрыть страницу с текстом, т.е. выйти на главную страницу, а затем опять вернуться на страницу с текстом (или нажать F5).
Тогда комментарий поставится! Надеюсь, что после этого разъяснения у меня, автора, наконец-то установится с вами, читателями, обратная связь – писать без нее мне тоскливо.
С.Бакис | |
| Просмотров: 899 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |