Новый фрагмент
| Главная » Новые фрагменты » Лариса ШЕПИТЬКО |
«Восхождение»
| Сценарий Ларисы Шепитько и Юрия Клепикова по повести Василя Быкова «Сотников». «Мосфильм». 1976 Валентина Хованская, работавшая вторым режиссером почти на всех картинах Ларисы Шепитько, вспоминает: приступая к съёмкам «Восхождения», Шепитько сказала ей, что намерена быть предельно твердой и как никогда бескомпромиссно бороться со студийным начальством и цензорами за каждый кадр будущего фильма. Теперь позволю себе довольно длинную выдержку из воспоминаний Хованской: «Меня удивило такое высказывание. «Вроде бы нет ничего «анти» в «Сотникове», чтобы испугать наши верхи». И тут Лариса взорвалась: «Если вы так считаете, то не понимаете, о чем эта картина!» - «Растолкуйте не эзоповским языком, ведь мы, как-никак, единомышленники». Лариса задумалась, потом сказала торжественно: «Это кино... вы читали Библию?» - «Библию? – удивилась я. – А при чем тут она?» - «Вот вам задание – почитайте Библию и поймите, что основой человеческой личности является духовность. Именно эту – основную - особенность человека мы и будем исследовать в своих героях. Стадная нравственность нашего времени, в стране, где от Бога отказались, поверхностна, и это мы должны понять через Рыбака. Сотников – другое дело, он нравственен так, как Бог задумал. Проблема «Сотников – Рыбак» - вечная проблема, Христа и Иуды... Понятно, при чем тут Библия?» - «Вот это да! Так вы что, задумали этот фильм на библейский сюжет?» - «Не я его задумала. Его время требует, а я только исполнить должна». – «Понятно, почему вы так много говорите о стратегии и тактике, о единомышленниках». Следующий разговор Лариса провела с ассистентом по актерам Эллой Баскаковой и прямо ей сказала: «Держите в голове образ Иисуса Христа, икону». Элла Баскакова, человек умный и сообразительный, сказала: «Понятно, икона. Только вслух об этом...» - «Ни-ни», - рассмеялась Лариса. И начались поиски». Лариса рассмеялась. Читать это тоже смешно. Но когда начались поиски, а потом съемки, было уж не смешно. Хованская пишет – да это известно и из других источников, - что работа над фильмом была адски тяжелой, и прежде всего из-за запредельных требований Шепитько, которая укоряла актеров в фальши и поверхностности, сотрудников в лени, нежелании выкладываться и чуть ли не в предательстве, а всех их вместе взятых – в конформизме. Она никогда не бывала довольна, постоянно взвинчивала атмосферу, меняла операторов, актеров, поссорилась со сценаристом, бесконечно назначала пересъемки. И чисто физически работа была мучительной: съемки проходили зимой, и режиссер заставляла актеров подолгу быть на жестоком морозе, продолжать работу, несмотря на крайнюю усталость, специально делала так, чтобы вовремя не привозили еду. В общем, она явно приближала условия работы над фильмом к «боевым». В конце концов Шепитько тяжело заболела – нервный срыв плюс сердце. Работа надолго прервалась, когда же Шепитько поправилась, было лето, и она отказалась снимать «фальшивую» зиму даже в проходных эпизодах; пришлось ждать настоящей зимы, когда фильм был, наконец, доснят. Вопреки опасениям Шепитько, он был выпущен на экраны без особых осложнений. Теперь я попытаюсь объяснить режиссерское поведение Шепитько, как я его понимаю. Для этого надо начать с повести Быкова. «Сотников» - жестокая история о двух партизанах, попавших в плен к немцам. Их начинают допрашивать, пытать. Один из них, Рыбак, парень сангвинического склада, опытный партизан и ловкий, жизнеспособный человек, напоминающий Жилина из «Кавказского пленника» Толстого, избирает тактику игры с врагами: он что-то якобы выбалтывает им и довольно быстро соглашается стать полицаем, уверенный, что потом сможет убежать в лес. Второй пленный, именем которого названа повесть (тот самый персонаж, будущего исполнителя роли которого Шепитько велела Баскаковой искать с иконой Христа под полой), ни на какие компромиссы не идет, его жестоко пытают и наконец казнят. Главное же в повести Быкова то, что казнить (повесить) Сотникова приказывают Рыбаку, и он подчиняется. По Быкову, даже такой компромисс с врагом, который совершающему его представляется чисто тактическим, неминуемо ведет к настоящему предательству, по логике «коготок увяз – всей птичке пропасть». С публикацией «Сотникова» у Быкова были сложности. Но я думаю, что испуг цензоров был вызван не столько содержанием повести, сколько ее натурализмом и исступленностью. Содержание же было вполне «советским»: никакого, - как говаривал Н.С. Хрущев, - мирного сосуществования в области идеологии! Однако советская власть в позднем ее изводе боялась любого экстрима, в том числе и экстрима «советскости»: большие католики, чем сам Папа, были ей не нужны, вот и все. Никаких диссидентских фиг автор «Сотникова» в кармане не держал – повторю, это было исступленно советское, патриотическое произведение – пусть о превосходстве духа над плотью, но дух Сотникова – дух советского человека и коммуниста, а не верующего. Шепитько намерилась возогнать «Сотникова» в «Восхождение», «фильм на библейский сюжет». Что ж, экранизации бывают всякие. Тарковский превратил рассказ Богомолова о мальчике-разведчике в фильм о сопротивлении человеческой души тотальному насилию, который привел в восторг экзистенциалиста Сартра. «Пикник на обочине», не самый глубокий опус Стругацких, он сделал картиной с метафизическим содержанием. Все возможно, почему нет? Да, все возможно. Но Тарковский, по существу, не оставлял от первоисточников камня на камне, он использовал их лишь в качестве сюжетной канвы и импульса к творчеству. Фильм Шепитько следует повести почти неукоснительно. По сравнению с литературной основой, перемена произошла не в материале, не в структуре фильма и не в характере героев, а в голове Шепитько: она захотела видеть в Рыбаке «стадную нравственность нашего времени, в стране, где от Бога отказались», а в Сотникове – человека, который «нравственен так, как Бог задумал». Захотела – и все тут. Как заставить зрителя понимать, что Рыбак – «стадная нравственность», а Сотников – почти Иисус Христос, - этим вопросом Шепитько как будто и не задавалась. Конечно, в картине несколько раз многозначительно показывается деревенская церковь, звучат цитаты из Библии, повешенный Сотников как бы взмывает на петле ввысь... Восхождение, Вознесение, аллюзии, аллюзии. Но писательская манера Быкова вообще, и в данной повести в частности – очень жесткая, отчетливо структурная, почти математически логичная; и поскольку, как уже говорилось, фильм следует повести почти неукоснительно, то, как собака стряхивает с себя дождевые капли, так эта быковская жесткость стряхивает с фильма побрякушки религиозных ассоциаций. Неужели Шепитько не чувствовала этого сопротивления материала? В том-то и дело, что чувствовала. Понимала, что одними аллюзиями не обойдешься, их недостаточно, чтобы сделать фильм чем-то вроде «нового Евангелия». И она, сознательно и бессознательно, стремилась проложить мост от повести про войну к библейской притче через ярость и исступление, которые вкладывала в работу и которыми успешно замучила всех и себя, но желаемого результата так и не добилась. Представьте себе треугольник АВС, который требуется пересечь другой геометрической фигурой, а именно шаром, находящимся от него на некотором расстоянии. Причем наложено некое дикое ограничение: перемещать фигуры не разрешается. Что делать? И вот некто начинает раздувать шар, надеясь, что он в конце концов дотянется до треугольника. Не будучи, по-видимому, человеком по-настоящему религиозным (будь она таковым – не говорила бы, наверное, о «вечной проблеме Христа и Иуды», ибо такой проблемы для верующего не существует) и не имея никакого мировоззрения, кроме советского навыворот, т.е. являясь советским человеком со склонностью к диссидентству, Шепитько не обладала духовным опытом, существенно отличным от опыта тех, кому адресовалось ее послание. И как это часто бывает у человека на пределе компетентности, она была вынуждена говорить на грани крика, срываясь в истерику и надрыв. Она тужилась, раздувая честное и понятное советское произведение до библейских масштабов, но произведение, твердо знающее, про что оно и во имя чего, не поддавалось, сводило все потуги режиссера на нет. В результате получился все равно советский фильм, но какой-то странный. Я смотрел «Восхождение» в родном городе, в кинотеатре имени Зои Космодемьянской. Фильм пустили ко Дню Победы, и после сеанса выступали участники войны. Один из них сказал: «Очень правильно, что такую картину показывают именно в этом кинотеатре. Зоя тоже была партизанкой и мученицей, как Сотников. Ей, извините, отрезали грудь, а она все равно молчала. А сволочи, как этот подлый Рыбак, что ж, бывали и такие, я лично их пристреливал вот этой рукой, а наш советский народ предал их вечному проклятию!» По-моему, этот старик воспринял картину совершенно адекватно. А кресты, иконы и то, как Сотников взлетает на петле в небеса, - на это он справедливо не обратил никакого внимания. Я пишу о «Восхождении», но на самом деле хочу сказать не столько об этом фильме и о Шепитько-режиссере, сколько о ней как воплощении советского интеллигента с его постоянной моральной взвинченностью и нравственным беспокойством. Не приходится сомневаться, что в мире было множество людей не менее интеллигентных и порядочных, чем интеллигенты советские, но вряд ли для их дискурсов оппозиции типа «нравственное – безнравственное» или «благородство – подлость» были настолько центральны, как для дискурса советского интеллигента (заметьте, я говорю «для дискурсов», а не «для сознания»). Вроде бы такая озабоченность моральной проблематикой очень привлекательна. Да не «вроде бы» - это действительно так. Но... может быть, другие люди, например, люди запада, не говорят столько о морали, потому что она у них есть или они, по крайней мере, имеют некие нравственные эталоны, с которыми можно в случае чего свериться – такие, как религиозные догмы, культурные традиции и т.п.? У советских же нравственность опиралась как бы сама на себя. Вспомним фильм Ильи Авербаха «Чужие письма», в конце которого старый учитель говорит своей молодой коллеге-Ирине Купченко, запутавшейся в отношениях с хамкой-ученицей: «Чужие письма читать нельзя, потому что... их читать нельзя». Вроде бы правильно: нравственный запрет, и все тут, без дальнейших объяснений. Но это правильно только в морально-философском плане – в плане же житейском, поведенческом необходимо, чтобы существовал некий конкретный референтный источник, к которому можно обратиться – такой, как Десять Заповедей, Евангелие или хоть Устав клуба ротарианцев. Трудно и просто энергетически неэкономно на каждом нравственном перекрестке искать решение в подземных переходах души. Нравственность советских людей, даже лучших, зависала в воздухе – вот им и приходилось из опасения, как бы она вдруг не улетучилась, постоянно выкликать ее: «Нравственность! Нравственность! Ау!» - как человек, который ищет в лесу свою собаку, кричит: «Бобик! Бобик! Где ты?» Или как тот, кто чего-то боится, невротически повторяет: «Не боюсь! Не боюсь!». Возможно, у человека запада нет невроза по поводу нравственности не потому (как принято считать среди русских), что он духовно обленился, а благодаря ясному пониманию, в чем конкретно нравственность состоит и из чего ее черпать. Тогда даже в ситуациях трудного морального выбора невроза не возникает: ведь он всегда развивается по поводу чего-то неявного, такого, что то ли есть, то ли нет. У советских же – невроз был, потому что они хронически сомневались, что то качество, которое в их шкале ценностей стояло под номером один, у них действительно наличествовало. ---- Это что касается Шепитько и ее фильма. Теперь еще несколько слов о повести «Сотников». По Быкову, компромисс непременно кончается предательством: он выстраивает в своей повести такую логическую цепь, в начале которой – хитрые игры с врагом, в конце – роль вешателя боевого товарища. Так у Быкова. Но в жизни людям, бывает, приходится изворачиваться, и необязательно они в результате продают душу дьяволу. Не всегда для проверки нравственной стойкости тебе предлагают повесить товарища по оружию: ситуация «Сотникова», возможно, имела место в реальности, но все же выглядит как лабораторная. (Кстати, теорема, предложенная Быковым, не столь уж логически неуязвима. Приняв участие в казни, Рыбак тут же хочет повеситься в сортире – правда, писатель делает так, чтобы удавка оказалась слаба: предатель не должен так быстро умереть. Однако если Рыбак от угрызений совести тут же решил распрощаться с жизнью – отчего он чуть раньше не подставил грудь немецкой пуле, вместо того, чтобы вешать Сотникова?) Дело, впрочем, не в этом. «Сотников» - не просто партизанская история. Пусть повесть Быкова не библейская притча, но это несомненно повествование о добре и зле, в котором реалии важны, но еще важнее общая концепция. Так вот, безжалостный детерминизм Быкова с трудом приложим к тем ситуациям выбора, в которые реально попадают люди. Выбирать обычно приходится не между хорошим и плохим, а между плохим и худшим. Логика Быкова в пределе – это логика Сталина, считавшего, что каждый солдат, попавший в плен – предатель. Есть роман Дудинцева, герой которого, притворившись сторонником Лысенко, ухитряется спасти от уничтожения плоды многолетнего труда генетиков. Смысл названия романа, «Белые одежды», в том, что иногда поверх ангельских риз приходится набрасывать дьявольскую шкуру. Огромный роман Дудинцева является как бы руководством по скрытому совершению добра в условиях господства зла. Обнажи свои белые одежды – и тотчас будешь стерт в порошок; замаскируйся – и можешь не только спастись, но еще и реально послужить добрым делам. Такая стратегия более практична и более человечна, чем быковская, она позволяет человеку уважать себя после вынужденного компромисса, – а без самоуважения добро не совершается. Бескомпромиссный писатель Быков подписал письмо, осуждающее Солженицына за «Архипелаг Гулаг». Я вовсе не утверждаю, что он сделал это из трусости, - возможно, он искренне считал, что печатать за рубежом книгу, критикующую советский строй, пусть даже справедливо, – это предательство. Можно критиковать свою страну, но надо всегда оставаться верным ей, хорошей или плохой! Но вот прошли годы, и Быков, не поладив с режимом Лукашенко, сам покинул родную Белоруссию, и к тому же переселился - куда? В Германию. Конечно, надо было, кроме всего прочего, подлечиться в приличной западной клинике. И война давно прошла. И Германия уже была совсем другая. Но все же, все же... что сказал бы Быков цыганке, если бы она в те времена, когда он писал "Сотникова", нагадала ему старость на немецкой стороне? Вот и выходит, что жизнь сложнее любых логических схем. Не знаю, как самому Быкову, но Ларисе Шепитько все сказанное мной, уверен, сильно не понравилось бы, она бы непременно зачислила меня в личности «с чужой группой крови» («моя – не моя группа крови» - по этому принципу, согласно той же Валентине Хованской, Шепитько выбирала друзей и сотрудников). И она наверняка бы сочла мои рассуждения слишком извилистыми для правды и до низости приземленными. Не знаю. Не думаю. Надеюсь все же, что такие определения были бы поспешны. Пассионарные личности вообще торопятся с определениями, опасаясь, что, если слишком долго думать, в голове все спутается, и можно вообще потерять всякую определенность. А без нее как же? 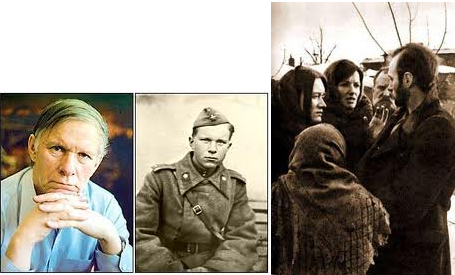 Василь Быков ( 1924 – 2003) Лариса Шепитько (1938 -1979) на съёмках «Восхождения» Автор С.Бакис | |
| Просмотров: 4742 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |