Новый фрагмент
| Главная » Новые фрагменты » Валерий ОГОРОДНИКОВ |
«Барак»
Режиссер Валерий Огородников. Сценарий Валерия Огородникова и Виктора Петрова по новелле Виктора Петрова «Ольга Ледоход». «Ленфильм» при участии Германии. 1999 г. «Барак» похож на фильмы Германа, и прежде всего, на «Лапшина». И визуально: чересполосица цветного и черно-белого изображения; с виду невыстроенные, косоватые кадры на самом-то деле красивы, за их рамками всегда ощущается бескрайний и сверхплотно населенный мир (фильм снят великим оператором Юрием Клименко, работавшим, кстати, и с Германом). И стилистически: те же надвигающиеся на камеру кузовами грузовики, те же взятые с затылков, спешащие мимо покошенных палисадников или мелькающие по коридорам, чтоб тут же исчезнуть за дверями квартирных нор, мужички; те же обрывки полуабсурдных диалогов: « - Какая вы настоящая. Экий профиль у вас! Сразу видно, что ленинградка. Браво! Выходите за меня замуж, Ольга Николаевна. – Прошу вас, оставьте меня в покое. – Браво!» И сюжетно: действие и в «Лапшине», и в «Бараке» происходит в дальних русских городах, у Германа – где-то на севере, в городе типа Вологды, у Огородникова – в городке Сатка Челябинской области. Герои обоих фильмов служат в милиции; это истории об их безответной (в «Бараке», впрочем, лишь до поры до времени) любви; Иван Лапшин и Алексей Болотин (арт. Евгений Сидихин) в промежутках между жизненными передрягами гоняются за всякими душегубами, и их служебная деятельность иногда с этими передрягами переплетается (такие уж они люди, что не могут не вкладывать в работу сердца). И наконец, тематически и смыслово: оба фильма – мощные высказывания о России, о русском народе. Сходны и позиции, с которых оба режиссера наблюдают свои художественные миры. Хоть это не подчеркивается Германом слишком навязчиво, все происходящее в «Лапшине» показано глазами мальчика: супервыразительность, гиперреализм и некоторая фантасмагоричность картины оправданы тем, что перед нами не объективное повествование, а мемуар. «Хрусталев», в котором фантасмагоричность доведена до почти невыносимого предела, - тоже воспоминание мальчика, сам Герман не раз это объяснял в интервью. Не будет натяжкой сказать, что в «Бараке», действие которого, как и в «Хрусталеве», происходит в 1953-м году, мир также увиден детским зрением. В эпизоде свадьбы, одном из двух пиков фильма, камера долго задерживается на лице сидящего за столом подростка – Огородников как бы хочет сказать нам: я видел все это, был этому свидетелем - а теперь хочу, чтобы вместе со мной увидели вы! Что же мальчик видел, свидетелем чего был? (Подросток ли это, сидевший за тем свадебным столом, или более юный сын Болотина, или еще какой-нибудь пацан из тех, что мельтешат почти в каждом кадре - под «мальчиком» я буду иметь в виду некоего «собирательного барачного мальчика»). Судьба велела ему быть свидетелем тесноты, пестроты, барачно-барочной причудливости, грязи и выси, грубости и томительной тоски жизни (среди «документальной» музыки, включенной в фильм, как-то: застольные песни пьяного народа; ежеутренний Гимн Советского Союза и песни советских композиторов из радиоточек; танго и фокстроты с пластинок, - среди и поверх этого музыкального ряда иногда звучит меланхолическая музыка Габриэля Урбано Форе). Он видел, как бродит, шатаясь, по коридору бухая тетка, жена немого татарина (арт. Нина Усатова). Слышал, как мерно, наподобие кузнечного молота, бьет в стену протез инвалида-фотографа: значит, тот заманил в свои донжуанские сети очередную бабу. Потом он помогал фотографу проявлять порнографические снимки, которые одноногий прохиндей делал после любви, уговорив любовницу послужить натурщицей. В качестве оплаты мальчик получал водки на самом донышке - и бездонной глубины мудрость: «Запомни: самый лучший мужчина хуже самой плохой женщины!» Он видел, как его отец каждый день кладет жизнь на кон, а вечерами пьет и блядует. Люди представали перед ним добродушными и злобными, мелкими и широкими. Каждый жил для себя и своих (не до альтруизма, когда того и гляди положишь зубы на полку), – но если соседу приходилось туго, все проходили на помощь как один. Апофеоз картины – длинная сцена аврала, когда обитатели барака вылавливают из дворового нужника оброненный пьяным Болотиным в очко табельный пистолет. За это посадить могут! И весь честной народ по цепочке передает ковши с дерьмом. Ур-ра, вот он пистолет, Алеха спасен! Алеха заслужил такое отношение, потому что он – человек! Лишь один хмырь, продавшийся в войну немцам уголовник Генка (арт. Алексей Девотченко), остался вне этого праздника барачной солидарности и с тоской и злобой наблюдал со стороны. А Фогельсон Георгий Осипович, уж на что прощелыга и единоличник, все-таки принял участие – запечатлел фотокамерой счастливых, обмызганных говном людей. Свадьба, второй кульминационный эпизод картины, также связана с Фогельсоном. Когда одна из любовниц уличила его в продаже открыток, на которых она изображена нагишом, Болотин поставил перед ним ультиматум: либо женишься на опозоренной бабе, либо идешь в тюрягу – материала на тебя больше чем достаточно. И Фогельсон, немного поразмыслив: все же в тюряге он уже бывал, в браке ни разу, - выбирает второе. И вот – свадьба. Песни и пляски, смех и плач. «Опа, опа, Америка - Европа, Англия – Италия, где моя Наталия?»: в мерной страшноватой кадрили народ поступательно движется по комнатам, выползает гусеницей через крыльцо на метельный двор, вползает обратно через заднюю дверь. Перед такими танцорами Америке и Европе, пожалуй, лучше посторониться. Мощно, ничего не скажешь! Но я все же кое-что скажу. (Не надо только после того, как я скажу это, переинтерпретировать все сказанное ранее как ловко замаскированный стеб – нет, я без шуток считаю «Барак» сильным и талантливым фильмом). Но – не чересчур ли? Не шутит ли сам Огородников? Неужто он верит, что зрители, наблюдая за этим единением через раскопки в выгребной яме, испытают ностальгию по барачным временам? Как говорили в старину, полноте! Но, может быть, это стиль такой карнавальный: дерьмо дерьмом, а народное торжество торжеством? Да нет, куда там. Если с передачей экскрементов по цепочке, допустим, как-то можно еще примириться, то с Фогельсоном - никак. Возможно, Огородников считал, что включение еврея в карнавальный круг особенно ярко подтвердит терпимость и всеприятие русской души... но лично я, даром что еврей, считаю: не надо, не надо было его включать! Это подтвердило никакое не всеприятие, а лишь то, что очарованный ароматами дерьма Огородников начисто потерял брезгливость. Продавать открытки с голой любовницей, которая, между прочим, мать двух маленьких дочерей, – это подлость, и негоже делать центральной и эмблематической сценой фильма свадьбу подлеца - никакой Бахтин оправдать такого не может! Огородников простил Фогельсона «по искусству» - но вот тупой вопрос: а простил бы он его «по жизни», если б тот снял для порнухи его, Огородникова, мать? Нет, не простил бы. Но тогда в голову приходит неизбежная мысль: так, может быть, он и по бараку ностальгирует лишь «по искусству», а «по жизни» бежал бы от него, аж пятки бы сверкали? И выходит, все это грандиозное барачное построение – ложь? Выходит, так. Тем более, что в фильме есть еще одна неувязка. Немой татарин произносит на свадьбе тост (его жена переводит с языка жестов на русский): «Выпьем за уральский добровольческий танковый корпус. За тех, кто сгорел в танках, etc., etc.» Позвольте! 53-й год! Где в тосте Сталин? В фильме его имя вообще ни разу не упомянуто. Нечестно! Если Огородников хотел всю правду о бараке сказать, он не должен был обойти народное отношение к Вождю. Видно, постеснялся. Или не захотел - возможно, из того соображения, что с тостами в честь Иосифа Виссарионовича число купившихся на сказку о милом дружном вонюче-теплом бараке могло бы существенно сократиться. Я смотрел этот фильм на Неделе русского кино в Нью-Йорке. После сеанса было короткое обсуждение. Я спросил Огородникова с места: «Сразу же после вашего фильма будет показан «Хрусталев». Сознаете ли вы, что «Барак» - это полемика с Германом, некий «Анти-Хрусталев»? И не считаете ли вы, что чересчур идеализировали барак?» Огородников ответил: «Я ни с кем не собирался полемизировать, просто снимал, что хотел и как хотел. А насчет идеализации - не знаю, как вы, а я люблю русский народ». Что до Германа, он полярность «Барака» «Хрусталеву» ощутил. Во всяком случае, в одном телеинтервью он отозвался о фильме Огородникова так: «Хотя Валера в некотором роде мой ученик, его «Барак» - дерьмовый фильм о дерьме». Герман в своем репертуаре. Я бы не был столь категоричен, но ясно одно. Диссонансы «Лапшина» и «Хрусталева» в итоге не примиряются, и зритель покидает фильмы Германа с плодотворным ощущением амбивалентности таких феноменов, как СССР, Россия, русские, человек и человеческая душа. Диссонансы «Барака» служат для того, чтобы в финале слиться в мажорный аккорд. Люди, оказывается, народ хороший. Любимая Болотина наконец ответила ему взаимностью (прекрасен, ничего не скажешь, кадр восходящего над зимней сонной землей солнца с закадровым женским голосом, шепчущим убывающе твердо: "Нет! Нет...") Да и Берию злодея наконец расстреляли. Все будет хорошо, все будет хорошо! Я не против оптимизма и хэппи эндов, и я верю, что Огородников любил свой народ. Однако я считаю фильм «Барак» намеренно или невольно неправдивым; поверить такому фильму – значит немножко поглупеть. Когда Огородников сказал, что, в отличие от меня, любит русский народ, зрители в зале – почти сплошь пожилые евреи и еврейки - одобрительно зашумели, а я стал мишенью нескольких сотен острых, как кинжалы, взглядов: вот он где, русофоб! Я же говорил – «Барак» мощный фильм: слабый не смог бы заставить столько евреев разом, ну пусть даже на хоть одно мгновение, превратиться в шафаревичей! Приложение, но не Отступление от темы. Примерно месяц назад писатель Захар Прилепин досказал за немого татарина то, что Огородников не позволил озвучить его жене. Свой памфлет «Письмо товарищу Сталину», написанный как бы от лица либеральной общественности, он закончил так: «Мы очень стараемся и никак не сумеем пустить по ветру твое наследство, твое имя, заменить светлую память о твоих великих свершениях – черной памятью о твоих, да, реальных, и, да, чудовищных преступлениях. Мы всем обязаны тебе. Будь ты проклят». В дальнейшем, пытаясь в ответ на негодование тех, от чьего лица он сочинил «Письмо», объяснить свою позицию, Прилепин в статье "Стесняться своих отцов" высказался в том смысле, что вовсе не является сталинистом, а его памфлет был продиктован стремлением выразить чувства людей, для которых имя Сталина до сих пор священно. Хорошо это или плохо, правильно или неправильно, но раз дело обстоит так, то миллионы безъязыких имеют право голоса – он, Прилепин, и стал их голосом. Независимо от того, что он сам насчет Сталина думает. Ох уж эти писатели. Поди разберись, что все-таки думает Прилепин, сколько в его памфлете боли за народ, сколько желания скандальной славы и сколько вообще в его построении логики. В общем можно заключить, что, в отличие от Лермонтова, «темной старины заветные преданья» шевелят в нем «отрадные мечтанья» или, по крайней мере, вызывают почтение: великий миф, чем бы он ни попахивал, следует уважать. Прилепин, конечно, волен думать все, что хочет, но мне кажется, его позиция сомнительна. Не буду сейчас говорить о том, что миллионы апологетов Генералиссимуса вовсе не так безъязыки, как утверждает Прилепин. Лучше я предложу ему вообразить следующее. Война выиграна не Советским Союзом, а Германией. Гитлер еще немного порулил, потом отдал концы. Постепенно в Германии стали происходить демократические сдвиги. Теперь это либеральная страна, однако огромная часть немцев убеждена: подло покрывать грязью великого Адольфа, который мало того, что поднял Германию с колен, но еще и продирижировал железной рукою победу над красной Россией, которая иначе покрасила бы в красное весь мир. Либералы стараются не позволить таким людям и рта раскрыть, но тут находится некий писатель З.Прилепке, который отважно дает подобным взглядам выражение (хотя сам является скорее антифашистом). Интересно, как бы Прилепин на такое посмотрел и что бы мне ответил? "Правильно, молодец герр Прилепке"? Или, может быть, он сказал бы: "Нет, Прилепке не молодец, а глупец: из соображения свободы мнений и демократии он доходит до того, что защищает злейшего врага свободы мнений и демократии. Надо, конечно, стараться быть последовательным, и надо помнить замечательные слова Вольтера, что он отдал бы жизнь за то, чтобы даже идейный враг имел право высказаться. Но не надо в своей последовательности доходить до абсурда. Никакая логическая система не является доказуемой во всех своих пунктах: теорему Геделя о неполноте тоже надо помнить! Все это так, все это так... однако, милый мой, не путай божий дар с яичницей: что бы там кто ни говорил, гитлеризм и сталинизм – абсолютно разные явления! Немецкий фашизм никак нельзя защищать, а советский социализм - можно!" Ну да, ну да. В его «Истории» изящность, простота Доказывают нам, без всякого пристрастья, Необходимость самовластья И прелести кнута. А.С.Пушкин И прелести барака тож. 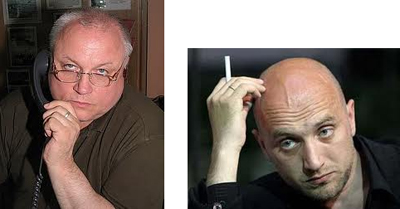 Валерий Огородников Захар Прилепин (1951-2006) (1975) Автор С. Бакис | |
| Просмотров: 2397 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |