Новый фрагмент
| Главная » Новые фрагменты » Андрей ТАРКОВСКИЙ |
Солярис
|
Фильмами Тарковского восхищаются. Их любят. Их, наконец, смотрят. Вместе с тем, они трудно поддаются анализу. Что, разумеется, не является их недостатком, скорее уж наоборот. Не из того расчета режиссеры снимают фильмы, чтобы критикам было полегче их анализировать. И все же, почему Тарковский ускользает от анализа? Сначала выскажу несколько общих соображений, потом перейду к «Солярису», чтобы на примере этого фильма подкрепить их.
1) То, что каждый фильм Тарковского – особый мир, а все они в целом – особый гипермир, не отличает его от других значительных режиссеров. Да, фильмы Тарковского непросты, они не того рода, где все можно понимать «один к одному» с реальностью, их называют авторскими, метафизическими, поэтическими, сновидческими... Два первых определения пропускаю, так как первое слишком общее, а второе слишком расплывчатое.
2) Тарковский периода «Иванова детства» действительно исповедовал «поэтический кинематограф», называл «Землю» Довженко любимым фильмом и усматривал природу кино прежде всего в его «образности». Но очень быстро, уже в ходе съемок «Рублева», он начал «менять веру». Теперь определяющим свойством кино он считал то, что этот вид искусства – «ваяние из времени». Идеальным художественным фильмом стал для него такой, гипотетический: документально снимается вся жизнь некоего человека, и потом из этого материала, без всяких монтажных склеек и посторонних интерполяций, как скульптура из глыбы мрамора, вырезается художественный фильм. Это легко сказать, но трудно осуществить; Тарковский считал, что наиболее приблизился к своему идеалу в «Сталкере», фильме, длящемся столько, сколько продолжается по сюжету его действие. Манифесты художников и их художественная практика редко сходятся, и случай Тарковского это подтверждает. Хотя пристегивание Тарковского к «поэтическому кинематографу» чем дальше, тем больше раздражало его, ничто не мешает нам все же считать его кино «поэтическим». Но тогда нужно сделать оговорку: поэтическое кино Тарковского стоит особняком по отношению к фильмам Довженко, Параджанова, Абуладзе, Ильенко, Калика, Рубинчика, Георгия Шенгелая и других представителей этого направления в СССР. О фильмах всех этих режиссеров можно сказать: они исполнены поэзии. О фильмах Тарковского надо сказать: они есть поэзия. В фильмах всей группы этих режиссеров есть некий реальный, предметный мир, в который вкрапляется или вторгается поэзия; фильмы же Тарковского – это сразу поэзия, без вступлений и предупредительных знаков. Это можно сравнить с киносказками. Есть такие, где ребенок засыпает, ему снится сказка, потом он просыпается. И есть другие, в которых сказка начинается сразу, причем мы распознаем то, что нам показывается, как сказку по множеству характерных для этого киножанра маркеров: фольклорность, чудеса, характерные сюжетные мотивы и т.д. Кино Тарковского, если настаивать на том, что это «поэтическое кино», можно сравнить со сказками второго рода, добавив к этому, что типологические черты «поэтического кино»: метафоричность, иносказательность, некая эмоциональная вздыбленность, подчеркиваемая изобразительная изысканность, - у Тарковского ослабленны или вовсе отсутствуют, особенно в его поздних фильмах. Это, понятно, тоже затрудняет их стилистическое распознавание и истолкование. (По поводу отсутствия у Тарковского изысканности меня легко оспорить; его фильмы очень красивы, и тут можно усмотреть непреодоленное противоречие между эстетикой Тарковского и его лозунгом «кино - ваяния из времени»; это сложный вопрос, заслуживающий отдельного разговора)
3) Отмежевав Тарковского от «поэтического кино» или внутри него, можно определить его фильмы как сновидческие. Следует оговорить, что под этим надо понимать не сны или странные образы на грани яви и сна, которые в его фильмах тоже наличествуют, но его фильмы в целом. Начиная с «Соляриса» (ибо трем первым его картинам сновидчество как организующий весь строй произведения способ видения - при том, что, что сны Ивана в его полнометражном дебюте являются важнейшей составляющей картины, - еще не свойственно), зритель, переступив порог его фильма – или, точнее, открыв дверь в его фильм, порога перед которой нет, - сразу вступает в сон. Опять-таки, в силу того, что в фильмах Тарковского нет типологических черт, свойственных искусству, черпающему из онирической (сновидческой) сферы человеческой психики, зритель или критик, попавший в мир Тарковского, испытывает некоторое затруднение. Произведения сюрреалистов могут вызывать трудности по части толкования тех или иных образов, однако мы легко соотносим картину Дали или Магритта именно со сферой онирического по чертам странного, причудливого, химерического или кошмарного. Тут существенно отметить, что, на самом-то деле, нашим снам вовсе не обязательно присущи такие черты: чаще сны поражают как раз своей предельной «реальностью»; сюрреалисты выделяют и возгоняют те особенности снов, которые вовсе не являются центральными. Тарковский - сновидец такого рода, который как бы стремится воссоздавать «подлинные» сны.
Тем, кто вступает в его мир, необходимо осознавать это, чтобы легче ориентироваться. Вместо того, чтобы расшифровывать те или иные моменты его картин во фрейдистском духе, или в поэтическом, или в мифотворческом (последний Тарковскому особенно не свойствен, ибо мифотворчество опирается на общее, на архетипы, на некие незыблемые структуры сознания и алгоритмы бытия, в то время как Тарковский использует исключительно индивидуальный духовно-психологический опыт), следует воспринимать его фильмы как некие цельные, связные и содержательные высказывания, – но цельные, содержательное и связные так, как это бывает в снах. Как сон лучше интерпретировать, не вычленяя из него детали по Фрейду: копье – фаллос, башня – фаллос, галстук – фаллос, но холм – грудь! или по сонникам: грязь - к деньгам, деньги – к беде, беда – к счастливым переменам и т.д., но стараясь разгадать его общий тайный смысл, так и фильмы Тарковского надо стремиться понимать в целом. Понять сон трудно, потому что он не выстроен как литература, в нем всегда есть посторонние элементы, скажем, вторжения событий минувшего дня. Так же нелегко понять и фильмы Тарковского: и в них неизменно присутствуют посторонние, случайные элементы. Но об этом позже. Сейчас добавлю, что сам Тарковский не ценил и не любил «умных», «интеллектуальных» зрителей и не раз повторял, что смотреть его фильмы надо, подчиняясь его, автора, воле и давая волю собственной интуиции. Не точно ли так же и сон свой мы можем понять не головой, но лишь «душой»? 4) Осознанно или неосознанно, Тарковский следовал в своих фильмах поэтике и строению снов. Принципиальной чертой снов является наличие в них лишних, как бы не укладывающихся в возможные трактовки элементов, а также их противоречивость. Попытки логического анализа фильмов Тарковского постоянно терпят неудачу именно потому, что фильмы эти тоже содержат «лишние» элементы и противоречивость мира этого режиссера не разгадывается путем интеллектуальной дешифровки. В связи с этим интересно, что у Тарковского, в отличие от таких больших режиссеров, как Феллини, Бунюэль, Хичкок, Антониони или Сокуров, никогда не было «своих» сценаристов, которые понимали бы его почти так же, как он сам понимает себя, и послушно выполняли бы его художественные задания. С другой стороны, Тарковский не писал сценариев сам для себя, как Бергман или Пазолини, а лишь был их соавтором. К тому же три из «семи с половиной» его фильмов – экранизации. Работа его со сценаристами (как и работа с оператором или композитором: об этом можно прочитать интересные воспоминания Эдуарда Артемьева) никогда не начиналась с объяснения Тарковским своего замысла: он лишь на что-то намекал сценаристу или композитору в довольно общих чертах и затем последовательно отвергал результаты их работы, пока не получал нечто для него приемлемое. Чем можно объяснить такой необычный способ сотрудничества? Возможно, тем, что Тарковский сам не понимал до конца и принципиально не хотел до конца понимать, чего он хочет: сны не расшифровывают. И тем более не хотел он, чтобы это поняли творческие помощники. Выскажу предположение, что Тарковский относился ко вкладу сотворцов как к материалу, с которым надо бороться, который надо преодолевать, как общая тенденция сна, его спонтанное тайное, «заветное» содержание преодолевает и поглощает случайные элементы, внесенные событиями ли минувшего дня, самим ли неорганизованно-хаотическим характером сновидений.
Сходным образом Тарковский работал на съемочной площадке: он постоянно советовался с сотрудниками, чтобы, чаще всего, только не согласиться с ними: их подсказки позволяли ему отключать из возможных выборов логичные, «вытекающие из», «резонные» варианты. И само поведение Тарковского как человека и режиссера состояло в нескончаемых колебаниях между крайней неуверенностью и крайним упорством. Как еще может вести себя тот, кто сделал жизненную и художественную ставку на крайне зыбкую, но властно-неотменимую сферу собственного подсознательного? Из всего сказанного можно сделать тот вывод, что подходить к «пониманию» фильмов Тарковского лучше всего так же, как мы подходим к толкованию собственных снов: это не всегда связное и никогда логически не объяснимое, но стойкое и упорное до навязчивости сочетание-повторение некого набора тем или мотивов.
Применительно к «Солярису» можно переложить это общее положение следующим образом.
В фильме есть, во-первых, мотив отчего дома/знакомого и любимого мира: начало. Есть, затем, мотив некоего наползающего на этот дом/мир, стремящегося аннигилировать его давления и, соответственно, возрастающего до какого-то с трудом выносимого, опасного предела психологического напряжения: эпизод футуристического города, снятый в Осаке. Ощущение от этих кадров похоже на то, какое бывает от электрической лампочки, которая с потрескиванием сияет недалеко от глаз: каждую секунду она может ослепляюще взорваться. Кстати, эпизод в Осаке и обрывается кадром мириад автомобилей, мчащихся в противоположные стороны по сложным развязкам: дьявольски горят их красные и белые огни.
Затем действие переносится с Земли на Солярис. Удивительная вещь: кажется, критики никогда не пытались объяснить, что такое этот Солярис для Тарковского, по Тарковскому, принимая эту жуткую планету как данность, механически унаследованную Тарковским от Лема. Например, замечательный критик Майя Туровская высказала несколько проницательных мыслей, касающихся частностей «соляристической темы»; так, она написала: Хари «старается понять Криса, заполнить tabula rasa своего «земного опыта», взглянуть снаружи, из космоса, что же такое человек». Замечательно, но что это за космос и почему Хари из него материализовалась? У Лема это достаточно понятно: Солярис – воплощенная загадка нечеловеческого (внечеловеческого) уровня сложности, на которую homo sapiens наталкивается в процессе познания, пытается решить ее сермяжно «человеческими, слишком человеческими» способами и терпит жалкое поражение, обнаруживая при этом – что уж говорить о Солярисе - непонимание даже самого себя и страх перед своим внутренним миром. Соответственно, Хари – хронически травматизирующая внутренняя проблема Кельвина, без решения которой он не может и пытаться браться за проблему Соляриса. Таким образом, у Лема речь идет о драме познания. Но Тарковскому нет никакого дела до драм познания, он всегда и исключительно сосредоточен на драмах сознания.
Так что же тогда Солярис для него? Я думаю, это мотив тошнотворной бездны собственного Psyche (душевно-психического мира), раскрывающейся индивидууму сквозь дыры в истончившейся, разредившейся картине реальности, как непостижимая хлябь Соляриса открывается обитателям станции через иллюминаторы. Почему реальность разредилась и истончилась? Таков результат самого познания, принесшего человеку, вместо понимания себя и смысла своего существования, лишь ощущение относительности всего сущего, вернувшего его, на новом, сциентистском и более омерзительном уровне, к позиции субъективного идеализма, когда все вокруг – лишь порождения твоего сознания. На простом языке это называется крайний индивидуализм и эгоизм. Однако здесь не теплый невинный эгоизм человека былых времен, а эгоизм человека века 20-го, ощущаемый им как божье проклятие. Для такого эгоизма, не приносящего даже тварной радости, есть более мудреное название - эготизм: «искусственная гипертрофия эго-функции, ведущая к усилению нарциссизма и принятию личной ответственности, способствующая развитию автономии» (Краткий толковый психолого-психиатрический словарь).
Да, развитию автономии - вплоть до полной аномии и самоизоляции, когда другой становится всего лишь набором нейтрино, проносящихся в твоем мозгу. Такова первоначально Хари для Кельвина. Но Хари не хочет быть нейтрино! Она, пусть возникшая как продукт его подсознания, набирается человечности – и Кельвин с ужасом, с отвращением противится этой нарастающей человечности исчадья его сознания, он хочет и дальше оставаться в уютном омуте солипсизма, по-старому ощущая телесность и духовность лишь в самом себе, всех же иных считая нейтрино, перед которыми он ни в чем не виноват и которым ничего не должен. Он пытается избавиться от Хари, отравить ее, аннигилировать, запустить к черту на вечную циклическую орбиту. Но все же... Тарковский говорил, что Кельвин отправился в космос, чтобы ощутить «спасительную горечь ностальгии». Не менее верно будет сказать, что он отправился в космос, чтобы волею Соляриса - и исступленными усилиями Хари, посланницы Соляриса, прорывающейся к его почти отмороженной человеческой сути, как она, раздирая свое нейтринное тело, прорывается через стальную дверь, - ощутить спасительную боль совести, жалости, сострадания. Только через эту боль - возвращение к отчему дому, знакомому и увиденному впервые глазами, которые омыли слезы. За высоту ж этой звонкой разлуки, О, пренебрегнутые мои, Благодарю и целую вас, руки Родины, робости, дружбы, семьи. Б.Пастернак. "Рослый стрелок, осторожный охотник" * * * Пора подвести черту. Итак, "Солярис" - по крайней мере, в изложенной трактовке - фильм о том, как человек мучительно преодолевает свою изолированность от других, как он прорывается из "мира как воли и представления" к миру как объективной реальности. При этом можно рассматривать story фильма, звенья которой - очеловечивание Хари по мере роста ее любви к Крису (воплощение мысли Блока:"Только влюбленный имеет право называться человеком" с существенной поправкой: "... может быть человеком"); сопротивление Криса ее любви и, следовательно, самому ее существованию; и, наконец, катарсическая "капитуляция" Криса перед любовью, знаменующая его собственное очеловечивание, - как грандиозную поэтическую метафору человеческой некоммуникабельности и ее преодоления. В таком случае правомерно заключить, что этот фильм Тарковского находится в поле поэтического кинематографа. Что ж, у меня, собственно, нет против такого заключения возражений, и если я все же повторю, что "Солярис" - фильм сновидческий, то сделаю это в качестве корректива, а не опровержения: в конце концов, грань между сном и поэзией, сном и метафорой смутна. И все же она есть. Метафора - артефакт; при всей возможной спонтанности ее рождения у поэта, она все же рассчитана/повернута на читателя, в ней есть игровой момент, она, как игра актера, при любой мере искренности обращена к воспринимающему. Сон не обращен ни к кому, он чисто психичен, это продукт субъективности, обращенный - если только это слово вообще применимо ко сну - только к самому субъекту. В поэтической метафоре, этом усложненном варианте поэтического сравнения, мостик "как" убран, означаемое и означающее сращены. Не являясь специалистом по генеалогии поэтических тропов, я все же думаю, что метафора исторически старше сравнения, она более психологизированна и отражает бОльшую меру безотчетности в отношениях поэта с внешним миром. И тем не менее метафору еще можно при желании превратить в сравнение, разорвав ее на половинки, как разрезают пополам яблоко. Что же касается сна, это как бы "отец" метафоры и предел психической обработки нашим Я его контактов с внешней действительностью; связи между предметом и содержанием, сутью и формой здесь настолько нерасчлененны, что - если только мы не хотим прибегать к фрейдистским или другим истолкованиям рационалистического толка - разделить означающее и означаемое здесь обычно не представляется возможным: сон не яблоко, а переплетшиеся и сросшиеся лианы или вросший ноготь. Возвращаясь к "Солярису", можно сказать, что, если это кинолента о преодолении индивидом одиночества, то такая, которая снята с точки не извне, а изнутри индивида. Отчет не о больной совести, а из нее. Если бы Тарковского заботила объективность, внятность и логика повествования, он дал бы предысторию отношений Криса и Хари, хотя бы намекнул на причину ее самоубийства, на меру вины Криса и т.д. (между прочим, предыстория эта была в сценарии, написанном Тарковским совместно с Горенштейном, но Тарковский-режиссер отказался от нее: см. тезис о "сновидческом" преодолении Тарковским внешних влияний). Зритель с самого начала видит всё глазами, воспринимает всё через сознание - человека с уже давно больной совестью. Конечно, это затрудняет восприятие фильма, но что поделаешь; логика, стройность, симметрия, упорядоченность, которых, с разумным учетом специфики жанра, доискиваются и которые находят стиховеды в поэзии, даже такой сложной, как поэзия Пастернака или Мандельштама, - киноведам не стоит искать их в "Солярисе". Хари, пробивающаяся к Крису через запертые им стальные двери, - это столько же она, сколько он сам, пробивающийся в сложном, мучительном сне к утраченному себе; столько же зов "пренебрегнутой", по слову Пастернака, любви, доносящийся к человеку из воздвигнутого им саркофага над собственным прошлым, сколько и зов его собственной пренебрегнутой, вытесненной человечности. В более поздних фильмах Тарковского, о которых я надеюсь написать, их сновидческая природа выступает еще более отчетливо. Перечитав вышеизложенное, я подумал, что, может быть, объяснил всё чересчур складно: яснее той объяснительской ясности, которая адекватна сновидческим фильмам Тарковского. Бывает, художник, закончив картину, чуть размазывает ее, чтобы сделать изображенное менее предметным. Надеюсь, понимающий читатель немного "размажет" строгие пункты моего текста. Это не совсем шутка: картины Тарковского требуют столько же понимания, сколько и смиренного, нераздраженного, заинтересованного и восхищенного непонимания.  Э.Артемьев, А.Тарковский и Н.Бондарчук на съемках «Соляриса»
 Фридрих Горенштейн 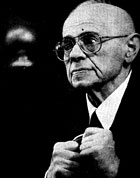 Станислав Лем Эдуард Артемьев - Обработка фа-минорной хоральной прелюдии И.С.Баха из к/ф А. Тарковского "Солярис" (Н. Чурикова) Просмотр фильма онлайн
Внимание! Через новый раздел нашего сайта "Информация по существу" можно выйти на рецензии других авторов на новые фильмы "Елена" и "Два дня". Интересующиеся могут сравнить их с нашими рецензиями. Следите за разделом "Информация по существу"! Автор С. Бакис
| ||||
| Просмотров: 4867 | Комментарии: 2 | Теги: | Рейтинг: 5.0/2 | ||||
| Всего комментариев: 0 | |